Путь
Владимира Мещерякова:
Гармония вопреки
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он ни делает, успеет.
Псалтирь, 1:3
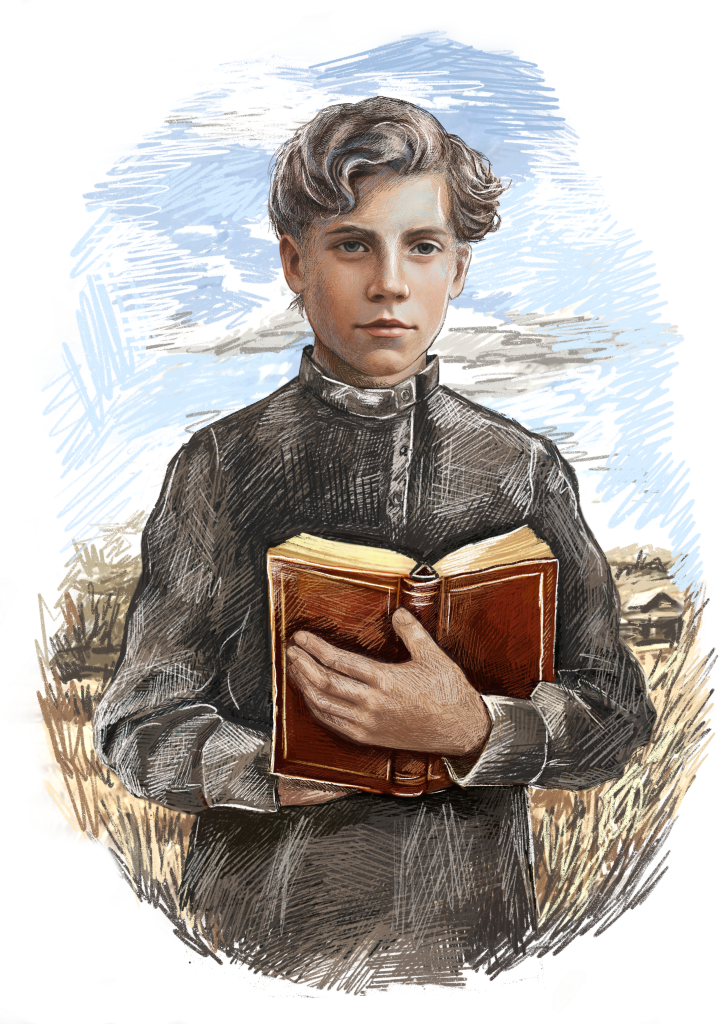
Дорогие ребята!
Однажды вы закончите школу и выйдете в большую жизнь, поступите в средние и высшие учебные заведения, станете получать профессию, которая, возможно, определит всю вашу дальнейшую жизнь.
В этой книге мне хотелось бы рассказать вам о нашем земляке, уроженце деревни Михайловка Токаревского района, который благодаря своему уму и усердию в учебе смог преодолеть путь от простого деревенского паренька до обладателя высокого звания профессора Российской академии наук. Поверьте, это было очень непросто и потребовало от него больших усилий, долгих часов неустанных занятий. Но его судьба показывает, что благодаря стремлению к знаниям возможно все — даже попасть в Академию наук, где работают самые умные люди нашей страны.
На страже русских рубежей
Володя родился в деревне Михайловка в многодетной семье: у него было две сестры и два брата, а всего их у родителей — пятеро.
Его предки его происходили из служилого сословия, охраняли рубежи Русского государства от набегов иноземцев на Большой засечной черте: в крепости Тамбов и поселении Татаново. Сначала их называли служилые люди, а позже они вошли в ряды сословия однодворцев. Государство предоставляло этим людям землю, они же, в свою очередь, должны были нести военную службу и охранять границы от врагов. Для этого в домах однодворцев всегда хранилось оружие: ружье, порох, пули — об этом свидетельствуют записи (или росписи) тех лет. После того, как границы России ушли далеко на юг, однодворцы Тамбовской губернии стали заниматься крестьянским хозяйством, но нередко уходили на военную службу уже в другие регионы страны. Врагов у нашей страны всегда было множество, а чаще всего в ту пору Россия воевала с Оттоманской империей (Турцией). До нас дошли записи о том, что и пращуры Владимира уходили на эти войны.
Но мирных годов было все же больше, и предки Владимира жили просто и честно: трудились, возделывали землю и со всей ответственностью подходили к созданию новых семей. При выборе будущего супруга или супруги они искали прежде всего человека доброго, любящего, отзывчивого и работящего.
Терентий и Прасковья (Мещеряковы и Милюшины)
Когда отец Владимира, Терентий Андреевич, задумался о женитьбе, его родители решили помочь сыну. Они подобрали ему девушку из уважаемой семьи однодворцев — Прасковью Сергеевну Милюшину из деревни Каликино, которой на тот момент было 16 лет. Поехали свататься к родителям. В день сватовства в доме Прасковьи собралось множество родственников, соседей, сватов. Рассевшись за большим столом они разговаривали, обсуждая будущий союз. Взглянув на молодых, отец девушки предложил:
— А теперь идите в соседнюю комнату и пообщайтесь, узнаете друг друга поближе.
Терентий и Прасковья остались наедине. Он внимательно посмотрел на девушку — красивая, спокойная, немного застенчивая. Она тоже украдкой бросала взгляды на парня, который ей сразу понравился. Немного поговорили, улыбаясь друг другу. Когда вернулись, родители спросили:
— Ну что, Прасковья, согласна ли ты?
Она кивнула:
— Да, я согласна.
— А ты, Терентий?
— Я тоже согласен! — твёрдо ответил он. Родители обрадовались, и начались приготовления к свадьбе, которую сыграли 30 января 1911 года.
После свадьбы родные Прасковьи, Милюшины, приезжали к ним в гости на Рождество Христово или Покров. Жили у них по полтора месяца, помогая по хозяйству: пряли, ткали, хлопотали по дому. Общались, отмечали вместе праздники. Жизнь текла размеренно и была наполнена заботой и дружбой. В 1913‑м году родилась дочь Анна.
На следующий год, 1 августа 1914‑го года, Россия вступила в Первую мировую войну. Мужчин призвали на фронт. Терентий Андреевич в том же году был мобилизован и направлен в железнодорожные войска на Кавказ. Воевал на Турецком фронте. Прасковья с маленькой дочкой остались в доме родителей Терентия. Из того периода жизни сохранился следующий эпизод. В период Столыпинских реформ прадед Андрей Федорович сумел купить в вечное пользование земельный надел в 25 гектар — так называемый отруб. Построил там домик и другие хозяйственные помещения, в которых хранил сельхозинвентарь. Получилось что-то вроде небольшого хутора. Для его охраны Андрей Федорович посылал туда сына Петра, а в помощь ему сноху Прасковью. С ними вместе, за компанию, ездила и сестра Прасковьи Лукерья. По вечерам Петр бросал всех и уезжал на телеге, прихватив мешок с зерном, к своей невесте в деревню. А обе сестры оставались на хуторе, сидели там и боялись до самого утра…
На Турецком (еще его называли Кавказским) фронте Первой мировой войны Россия добилась значительных успехов, солдаты и офицеры воевали слаженно и самоотверженно, одна победа сменялась другой. Однако все изменилось в 1917 году — отречение Российского Императора Николая Второго (а именно ему приносили присягу солдаты), Февральская революция, буря революционных событий накрыли Российское государство. Вот в такой обстановке, погрузив свои личные вещи на железнодорожную дрезину, Терентий с сослуживцами двинулись на Родину через Армянское нагорье близ подножья горы Арарат. В пути их обстреляли горцы, некоторые товарищи были убиты, а Терентий получил тяжелое ранение. Пуля прошла через левый глаз и раздробила кость носа. Так он стал инвалидом. Раненый, ограбленный бандитами, Терентий вместе с раздетыми и разутыми товарищами смог пешком пройти через перевалы и добраться до ближайшего селения. Замерзшие, потерявшие много крови, полуживые, они были отправлены в лазарет. После лечения, с черной повязкой через глаз и нос, Терентий отправился домой. По пути некоторое время лечился в госпитале Краснодара (тогда Екатеринодара). Оттуда стал пробираться к дому через районы боевых действий. Одни территории были заняты «белыми», другие «красными». Но и те, и другие пропускали его, как инвалида войны, возвращавшегося на родину, домой, в Тамбовскую область.
Прибыл домой больной, одетый как попало, без глаза, с черной повязкой на лице. Сложно было родным узнать в больном и измученном инвалиде бравого солдата и красивого статного мужчину. А к ранению прибавилось еще и заболевание легких. Но главное, что Терентий вернулся живым и наконец-то был дома. Началась мирная крестьянская жизнь. Семья постепенно увеличивалась: в 1918‑м году на свет появился сын Иван, в 1923‑м — Владимир, в 1926‑м родилась вторая дочь Лидия, а в 1931‑м — Виктор, третий сын.
Деревенское детство
Работать Терентию стало сложнее, поэтому все дети с ранних лет помогали отцу в крестьянском хозяйстве: пахали землю, сеяли, молотили зерно, сено косили, присматривали за домашним скотом. Интересны воспоминания старшего сына Ивана о детстве:
«Все, что осталось в памяти, связано с трудом отца. Совместным трудом подростка, сына и отца и некоторыми моментами отдыха и воспитания. Почти на все сельскохозяйственные единоличные работы папа брал меня, хотя мне было не более 8 лет. Утром рано будил, я наспех одевался и лез в повозку, где и продолжал досыпать в ранние утренние часы под стук колес. Приезжали в поле. Отец запрягал лошадь в соху, а я собирал навоз, то есть сухой кизяк, который использовался как топливо для приготовления завтрака. Подвешивали на оглобли котелок, заливали водой и зажигали кизяк. Иногда из дома брали уже готовый кизяк, кое-какие дровишки. Отец начинал пахать, а я готовил под его руководством пшенную кашу или пшенный картофельный суп. После завтрака отец делал несколько еще борозд, уставал и передавал соху мне. Старая лошадь шла по краю борозды, а я своими детскими руками поддерживал соху. А на конце загона выводил соху из борозды и ставил ее в обратном направлении. Будучи маленьким мальчиком, идущим по борозде за лошадью, меня было плохо видно. И со стороны соседи-мужики считали, что у Терентия Андреевича лошадь сама пашет. После пахоты часто бороновал вспаханную землю бороной, сидя верхом на лошади. Во время косьбы ржи, проса и других культур отец сваливал косой крючком рожь, мать связывала рожь в снопы, а я с граблями собирал колоски. После напряженного трудового дня, когда рубаха родителей покрывалась солью, снопы складывались и укладывались по 13 снопов в крестцы, а 4 крестца составляли копну. Клали так, чтобы удобно было грузить их».
Торжественность приема пищи в доме соблюдалась не только по большим и малым праздникам, но и в будние дни. Мать с помощью детей наливала в большую чашку щи или борщ, суп или лапшу, клали туда же кусочки мяса, резали хлеб в хлебницу, и все приглашались за стол: и взрослые, и дети. Молились Богу перед иконой, висевшей на самом видном месте в переднем углу. Потом садились за стол. Есть начинали только после того, как ложку брал дедушка (позже — отец), вслед за которым суп из общей чашки начинали черпать и все остальные. Когда суп заканчивался, дедушка стучал по столу ложкой или говорил: «Можно брать». Это означало, что теперь, когда вычерпан суп, можно разбирать и мясо. Делать это раньше времени, как и торопиться при еде, не дозволялось. На второе чаще всего подавалась пшенная каша, творог с молоком. Если кто-то из детей просил поесть в неурочное время, летом дедушка давал таким яблоки, а в другое время года — вареную картошку или кусочек круто сваренной пшенной каши.
Во время поста (а это примерно 6 недель в году да среда и пятница каждой недели) ели квас с картошкой или свекольник из сахарной свеклы. В эти дни воздерживались от мяса, яиц и молочных продуктов. Рыбу же в наших краях продавали редко, да и купить ее крестьянину было особо не на что. Особенно строгий пост держали в последнюю неделю перед Пасхой. Основной едой в эти дни были хлеб да квас, чего, конечно же, недоставало не только детям, но и взрослым. Все с нетерпением ждали Пасху. На этот большой праздник каждая семья, в том числе и бедные, готовила самую вкусную еду: мясные щи, варили и красили с помощью луковой шелухи или красной краски яйца, резали свиное или куриное мясо. Непросто было досыта накормить в дни Пасхи большую семью, изголодавшуюся за долгие недели поста. Торжественно отмечались в доме и другие религиозные праздники: Рождество, Крещение, Покров день, Масленица (Прощеное воскресенье), Поминальные субботы.
Дедушка Андрей Федорович
Во всем помогал семье мудрый дедушка Андрей Федорович. Он был ее предводителем, хозяином и распорядителем средств. Сперва вся семья жила одним домом: два брата Андрей и Михаил со своими детьми и женами, дедушка. Затем, приблизительно в 1924‑м году, братья разделили большой каменный дом 1865 года постройки пополам.
Дедушка перешел на половину отца Володи, сочувствуя сыну-инвалиду и стремясь его поддержать… Крепкий старик много помогал по хозяйству, брался даже за молотьбу цепом на земляном току. Летом, в разгар полевых работ, оставался с внуками дома, приглядывал за хозяйством и садом. А малые и большие внуки собирали падалицу — осыпавшиеся плоды — в саду, пасли на выгоне гусей, поливали на огороде огурцы, капусту, пропалывали просо и выполняли множество других самых разнообразных работ по дому и хозяйству. Дедушка был строг, но справедлив, любил и жалел внуков, а они отвечали взаимностью, уважали и всегда и во всем слушались своего первого воспитателя и наставника. Притом главным средством воспитания был посильный детский труд. Телесных наказаний дедушка никогда не применял.
Андрей Федорович курил, но старался скрывать это от своих детей и снох, а особенно — от внуков… Свой табачок хранил под крышей сарая или в шалаше в саду. Где-то в зарослях у него всегда тлел кизячок-навоз для прикуривания. Если кто-то заставал его в саду за курением, то самокрутка (козья ножка) мигом пряталась в рукав, а дедушка или отсылал пришедшего, или сам уходил подальше от дорожки. Видимо, очень уж не хотел он ненароком передать свою дурную привычку внукам…
Одевался дедушка очень скромно, но всегда опрятно и чисто. За этим следила и его сноха, мама Володи. Андрей Федорович носил седую опрятно подстриженную бороду, а волосы подстригал под кружок (или горшок), с пробором на две стороны.
Революция, большевики, Антоновское восстание
1920‑е годы выдались для семьи, как и для всей страны, непростыми. В России бушевала Гражданская война, эпидемия сыпного тифа косила людей, а в Тамбовской губернии разразилось Антоновское восстание — одно из крупнейших крестьянских выступлений против советской власти (1920–1921). Тамбовская губерния была одним из сельскохозяйственных центров России, и крестьяне всегда, на протяжении столетий, сдавали часть своего урожая государству. Но советская власть требовала больше прежнего и, не заботясь о крестьянах, стремилась забрать у них практически все, чтобы было чем поддерживать Красную армию и последователей большевиков в городах. Настало время «продразверстки».
Устав от произвола властей и протестуя против насильственного отъема зерна, крестьяне взялись за оружие. Не остались в стороне и Мещеряковы. Они не могли спокойно смотреть, как пришлые вооруженные люди, зачастую и по-русски-то не говорившие, грабят села и города Тамбовской губернии. Для подавления восстания советская власть привлекла формирования «латышских стрелков». Латвия тогда была оккупирована немецкими войсками, и, конечно, воевать с безоружными в массе своей крестьянами латышам было куда проще, чем освобождать собственную родину от регулярных немецких войск.
Петр, родной брат Терентия Андреевича, и его двоюродный брат Василий примкнули к крестьянской армии Антонова, надеясь добиться от советской власти более справедливого отношения к крестьянам. Целый год правительство не могло подавить повстанцев. Однако летом 1921‑го был убит Александр Антонов, один из главных предводителей восстания и красноармейцы взяли верх. Многие из участников этого выступления погибли в бою или были расстреляли. В числе последних оказались и братья Терентия. Однако события на Тамбовщине серьезно напугали советскую власть и вынудили ее начать постепенное сворачивание политики «военного коммунизма» с насильственным отъемом зерна у крестьян и впоследствии перейти к «новой экономической политике». Продразверстка была отменена по всей стране и заменена продналогом. Воевали и погибли Петр и Василий не зря.
Смерть дедушки Андрея
В 1928‑м году ушел из жизни дедушка Андрей. Сохранились воспоминания его старшего внука Ивана, брата Владимира, о последних днях жизни деда. Вот что он писал: «Осенью убирали в огороде картофель лошадью, запряженной в соху, выпахивали клубни картофеля, взрослые и дети собирали клубни в ведра и относили в повозку. Набрали воз картошки, примерно около 500 кг, и я повез ее к дому. Мне было тогда около 10 лет. Дедушка подвернул вбок лошадь и плечом перевернул повозку, и картофель оказался на земле. Вечером, поужинав, легли спать. Ночью, в 12 часов, дедушке стало плохо, он с трудом дополз из амбара, где летом спал, до дома, разбудил родителей и попросил его соборовать. Скорой помощи тогда не было, нужно было везти в больницу на лошади.
Отец привез из соседней деревни священника, который выполнил по христианскому обычаю обряд. После этого повезли дедушку в Абакумовскую больницу, где поставили диагноз — ущемление паховой грыжи — и стали готовить к операции. Я же ночью был послан за 7 км в деревню Березовку, где жила моя тетя, дедушкина дочь Наталья Андреевна. Вместе с ней рано утром мы пришли в Абакумовскую больницу. Меня не пустили в операционную, а дедушкина дочь захватила умирающего отца на операционном столе. Операцию не делали. Так скончался наш любимый дедушка. Омертвление тканей при ущемлении грыжи. Это было в 1928‑м году. Все родственники провожали главу семейства, отца и деда, человека труда и совести. Похоронили его в соседней деревне, Абакумовке, на кладбище недалеко от ранее стоящей церкви. Его жена, бабушка Агафья, умерла совсем молодой женщиной, и я ее не помню. Вторично дедушка не женился».
Кстати, ребята, а вы знаете, почему село называется Абакумовка? Его имя образовано от фамилии братьев Абакумовых, которые заложили это поселение в период между 1762 и 1782 годами. Были они переселенцами из старых сёл, в основном из села Бокино Тамбовского уезда. Сюда переселились однодворцы Терентий, Иван и Пётр Абакумовы, Антон Шевцов, Иван Губарев, Трофим Глазов, Яков Булавкин, Аркадий Нечаев и другие. Всего 268 человек.